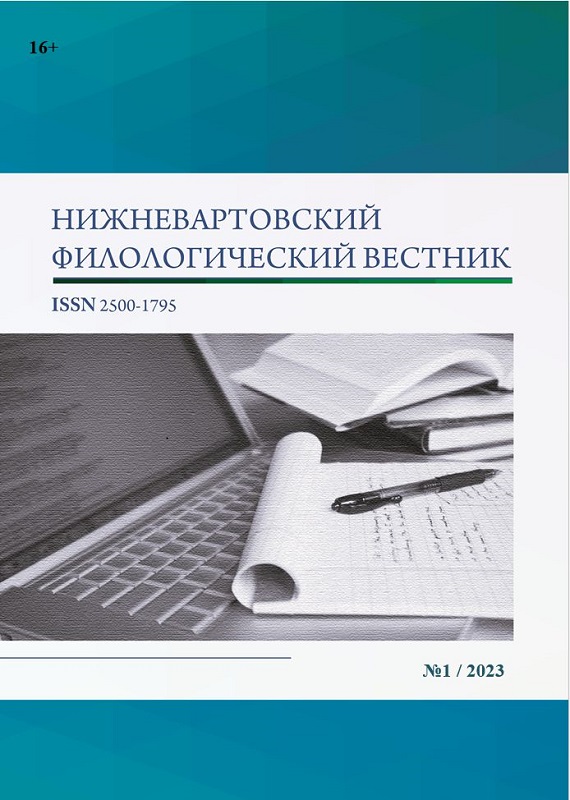Marked Feat of Allusions in Roman Mikhailov’s Fairy Tales Collection «The Berries»
- 作者: Bezrukov A.N.1
-
隶属关系:
- Ufa University of Science and Technology (Branch in Birsk)
- 期: 卷 8, 编号 1 (2023)
- 页面: 6-17
- 栏目: Отечественная филология и методика преподавания
- URL: https://filvestnik.nvsu.ru/2500-1795/article/view/466784
- DOI: https://doi.org/10.36906/2500-1795/23-1/01
- ID: 466784
如何引用文章
全文:
详细
Artistic experiments are characteristic of the latest Russian literature. The experiment allows not only to create the effect of a dialogue with the classics, but also to build a new model for assessing reality. The poetic world traditionally has two highways of balance: this is time and an artistic space. The poetics of postmodernism is focused on the creation of the new within the framework of the transformation of the existing. Aesthetic experience processed by postmodern authors has signs of allusions, reminiscences, quotations, open hints. Roman Mikhailov's prose is a unique example of playing with literary codes, cultural and historical stereotypes. This happens both at the level of form and at the boundary level of content. The new literary reality of assessing the present in the mode of fairy-tale narrative is being implemented in R. Mikhailov’s collection “The Berries” (2019). Lately reseachers have been finding little interest in the collection, there are hadly any works found in the public domain that would concern the analysis of language, style, author's manner of narration, compositional framework, genre variations. Thus, the study in line with the assessment of the typology and poetics of Roman Mikhailov's “fairy tales” appears to be relevant. The methodological content of this work correlates with the one of a receptive and hermeneutic nature. Labeling of allusions in the collection “The Berries” is carried out for the purpose of visual differentiation of meanings. The scope of postmodern writers’ meanings expands to rhizome. Consequently, the text stops being only a formal plane, but becomes a paradigmatic sign system. The collection of fairy tales “The Berries” contains texts of different years. However, they form a single artistic world with related plots. The literary experiment of R. Mikhailov's fairy tales focuses on the texts by Sh. Perrault, F.M. Dostoevsky, N.A. Nekrasov, I.S. Turgenev, N.S. Leskov, A.P. Chekhov; N. Pogodin's screenplay; V. Suteev's cartoon plots; V.S. Vysotsky's song structure. The range of allusions in this case is wide, while the integrity of the cycle remains impeccable. This material can be used in studies on the poetics of the latest Russian prose, as well as in the invastigations focused on Roman Mikhailov’s works.
全文:
Читателям новейшей русской литературы, помимо имен Наринэ Абгарян, Евгения Водолазкина, Михаила Елизарова, Виктор Пелевина, Захара Прилепина, Владимира Сорокина, Марины Степновой, Михаила Шишкина, Леонида Юзефовича, Гузель Яхиной, имя Романа Михайлова также известно.
Роман Михайлов – современный прозаик, драматург, к тому же математик, доктор физико-математических наук, профессор, практикующий эзотерик. Он автор таких текстов как «Улица космонавтов» (2014), «Равинагар» (2016), «Изнанка крысы» (2017), «Антиравинагар» (2020). В 2020 году цитаты из его книг послужили названием и эпиграфом 2-ой Триеннале современного российского искусства – «Красивая ночь всех людей». Спектакль «Сказка про последнего ангела», поставленный Андреем Могучим (Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова) по рассказам Романа Михайлова, получил в 2021 году театральную премию «Золотая маска». В этом же году Михайлов стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Проза» за роман «Дождись лета и посмотри, что будет». Следовательно, его тексты вызывают явный читательский, да и исследовательский (Сердечная 2020) интерес, они и сказочны, и реальны, в них классика и современность, поиск оставшегося в хаосе мира тепла. Перспектива популярности автора, на наш взгляд, заключается в компилятивной природе стиля, комбинации, на первый взгляд, разнородных элементов, но онтологически ориентированных на познание бытийной сущности человека.
В информационном предисловии к сборнику сказок «Ягоды» отмечается, что Роман Михайлов «специалист по символическим цепочкам и пространствам» (Михайлов 2019). Для новейшей русской литературы, безусловно, характерен так называемый эстетический эксперимент, сознательный сбой в режиме письма, искажение, деформация классических форм. Подобный эстетический извод встречаем у Марины Степновой в романе «Сад» (Степнова 2020), у Дмитрия Глуховского в «Тексте» (Глуховский 2021), у Александра Пелевина в «Покрове – 17» (Пелевин 2022). Одним из подобных ориентиров на игровой режим Романа Михайлова с наличным текстовым конструктом является сказка, сказка как особый жанр реализации идейных настроений.
Традиционный принцип сказочного (Пропп 2000) конструирования условной реальности, да и само повествования у Романа Михайлова сознательно трансформированы, ибо художественный мир текста (Безруков 2015) смежно параметричен и вариантно сращивает исторические грани. На наш взгляд, наиболее декламационно новая эстетика, новый литературный извод оценки настоящего в режиме сказочной наррации претворяется в сборнике сказок Р. Михайлова «Ягоды» (2019).
Отметим, что сказки Романа Михайлова не изучены, в открытом доступе на данный момент нет работ, которые касались бы анализа языка, стиля, сказочной манеры повествования, реализации авторских установок, композиционной рамки, жанровых вариаций. Таким образом, исследование в русле оценки типологии и поэтики сказок Романа Михайлова вполне оправдано и актуально. Методологическая основа работы соотносится с вариантом рецептивного и герменевтического толка; целесообразно также использовать в ходе анализа литературного полотна и компаративный принцип, ибо анализ жанра как особого принципа миромоделирования нуждается в сравнительно-кодификационной разверстке.
В сборнике «Ягоды» собраны тексты разных лет, однако, они образуют единый художественный мир со связанными друг с другом сюжетами. Отметим, что автор нетривиален в выборе проблемных магистралей – это волшебное превращение, общение живых и мертвых, уход из мира, нарочитое впадение в безумие с целью изменить реальность, трансцендентный эксперимент над собой, маркированный фит аллюзий и т. д. Думается, что особая роль в построении этих форм отводится именно сказке, ибо номинация / заголовочный комплекс открывают мир метапсихического вымысла, приподнимают завесу иного течения времени: например, «Сны моего отца», «Баня», «Героин приносили по пятницам», «Золотарёвские болота», «Ягоды», «Маски», «Самолеты», «Война». Таким образом, структура сборника тяготеет к циклической форме. Однако, особое построение автором выдерживается не так строго, возможна дифференциация местоположения того или иного текста, связующим маркером при этом становится фронтир – зона пограничного состояния героев. Не исключается в «Ягодах» при формировании сюжетной канвы и мифологическая основа. Изначальный исторический этап общества, безусловно, тяготел к синкретическому типу, но дифференциации на отдельные векторы развития уже намечается. Можно согласиться с классическим наблюдением Ролана Барта, что «читатель переживает миф как историю одновременно правдивую и нереальную» (Барт 2008: 288). Схожий эффект достигается в сказках Р. Михайлова, что не может не доставлять удовольствия реципиенту.
Открывает сборник сказок романа Михайлова предисловие, в котором верифицирована рецепция книги, процесс сближения текста с «потенциально знакомым читателем»: «Н. – мой учитель. Несколько раз пытался прочесть ему сказки. Мы ехали с Н. в поезде, возвращались после сбора яблок в заброшенном колхозе. Усталые. Спросил, хочет ли он, чтобы я прочитал ему сказки. Он ответил, что не хочет. Второй раз задал ему тот же вопрос, когда мы сидели в пустой квартире. Н. ответил, что надо послушать, но не сейчас. Третий раз напомнил ему про сказки, когда мы сидели около поликлиники. Он ответил: «Давай». Я достал из рюкзака смятые листы … и начал читать» (Михайлов 2019: 7-8). Наиболее действенной на сознание Н. из сказок Романа Михайлова оказалась «Старый заяц»: «Н. послушал и «Старого зайца», ответил, что понимает, о чем идет речь» (Михайлов 2019: 8). Безусловно, «какие-то моменты его возмутили: он узнал истории и персонажей, какие-то моменты его обрадовали, он сказал, что именно так и должно произойти в реальности и жаль, что это сказки» (Михайлов 2019: 8). Как отмечается в предисловии, «самым радостным было услышать от него «это же мы» (Михайлов 2019: 8). Такая оценка «учителя» для Михайлова, пожалуй, самая высокая похвала.
Генерирование сюжетного пространства, причем близкого настоящему, условно мозаично, дробно, дейктично. Автор неслучайно, описывая топос / место пребывания, еще в самом начале сборника, точнее, в предисловии, отмечая, что «первое впечатление от города: нет ни одной ровной улицы, все [и]вогнуто и есть ощущение, что [и]вогнуты направления в целом – будто смотришь через толстое неровное стекло или систему плавных зеркал» (Михайлов 2019: 8). Даже географические направления смешиваются, меняют ориентиры: «Чтобы смотреть на восток, нужно идти взглядом за дома, закручивать в себе видимое. Не получается показать рукой «восток – там». Восток оказывается действием, чередой движений, а не только направлением» (Михайлов 2019: 8). Внешний мир сказок, таким образом, смещается на второй план, плоскость настоящего / действительного нивелируется, остаточность аллюзий все же имеет место быть. Внутренние магистрали выступают как основные, смысловая проекция движется за счет имманентного наполнения.
Временные рубежи в сборнике «Ягоды» очерчены достаточно условно. Однако, автор внимателен к датам написания текстов, к хронометрическим фронтирам реализации того или иного сюжета. Отправной точкой, началом повествования является сказка с позиционным названием «Война», завершается же данный цикл текстом «Старый заяц». Девять историй, девять дней, девять сказок! «Девятка» в данном случае символизирует порядок, совершенство мира, многомерность, вечность, гуманистический вектор, возвышенность духовного мира. Сказочный колорит, нарочито вводимый в текст «Ягод», номинирует зрелось, манифестирует опыт, дает информативную полноту и подпитку. Для Романа Михайлова «девять» есть жизненный уклад, отчасти нелепая, но в большинстве своем трогательная аллюзия. Средствами художественной поэтики становятся припоминание (например, «Тысяча и одна ночь», «Декамерон» Дж. Боккаччо), цитата («прыг-прыг под кусток»), перефразирование («у кого в лесу самые большие уши?»), стилизация («а у меня ведь нет никого кроме тебя… как своего схоронила, так и не живу совсем»), языковой пастиш («мы вышли из дома… ветер проявлял себя в полноте и жестокости… природа волновалась, издавала порывистые звуки, скрипы»), палимпсест («не знаю, куда страна катится… цены опять подняли»). На наш взгляд, аллюзийный фон в «Ягодах» есть форма фита (с англ. featuring, сокращ. feat – принимать участие, перепевать совместно, исполнять что-либо уже ставшее классикой). Для автора дублированное исполнение ряда сюжетных, жанровых вариаций из фольклора, устного творчества, а также литературных образцов создает новый смысловой предел, новое коннотативное звучание.
Литература постмодернизма не столько созидает буквально новое / свое, сколько обрабатывает, трансформирует уже имеющийся аллюзийно-эстетический опыт. Происходит это как на уровне формы, так и на рубежной контрапунктивной точке содержания. Для писателей постмодернистского толка ризома смысла, вероятно, рождается в преодолении формальной составляющей. Ирония, симулякр, гибридизация языка, пародирование, недосказанность, карнавализация, вот, пожалуй, основной, но неполный набор характеристик (Ихаб Хассан), которые дают возможность создать текст, маркированный поэтикой постмодернистской игры. Заметим, что основной объект, привлекательный для Романа Михайлова, именно текст, текст не только как наличная знаковая система, но и как сферическая парадигма, состоящая из коннотативных блоков – интрад (вступлений). Схожий вариант литературного претворения, состоящий из начальных точек [буквальное начало – конец сказочного бытия], находим в «Войне» Романа Михайлова, первом тексте, открывающем цикл: «Родился я в бедной семье. Отец ушел, когда я совсем маленьким был. Так мы с матерью вдвоем и остались…». Завершается эта сказка следующими строчками: «Мы вышли на улицу. Ветер утих <…> Мы взяли ложки и пошли по дороге на автобусную станцию. По расписанию прибыл автобус, который доставил нас на вокзал. Затем подошел и поезд, который вернул нас в город привычных чувств и стремлений» (Михайлов 2019: 84). Цикличность, следовательно, работает как на уровне всего сборника, так и в пределах одной сказки. Автор сказочно-мифологическую ауру подкрепляет языковым стандартом: местоименная форма «я» и «он» обобщается формульной «мы». Роман Михайлов строит концепцию художественного мира по параметрическим уровням – движение осуществляется от мысли к чувствам, от знака к ритуалу, от языка к метафизике и постижению онтологии.
Герои / персонажи всех сказок из сборника «Ягоды» концептуально просты, частотность использования маркера «как обычно» свидетельствует об этом. Однако, фрактал памяти, который открывается в ходе чтения, дает возможность нивелировать буквальную градиенту реальности. В заключительной сказке «Старый заяц» это, на наш взгляд, прописано особенно символично. Художественный мир итогового текста «Ягод» предметен, точен, выверен: «Стоянка находилась рядом с городской площадью. Поначалу Тимофей Иваныч устроился сторожем на стоянку. Ему выдали синюю форму с пришитым знаком неизвестного содержания, крепкие сапоги, чтобы прохаживаться в дурную погоду, и даже ружье, конечно же, без патронов» (Михайлов 2019: 332). Сюжет сказки синтезирует три временных уровня: это настоящее, прошлое, которое реинкарнируется в памяти героя и время вечного покоя, как вариант смерти. Формой реализации аллюзийной парадигмы становится карнавал, действо с переодеванием, с облачением в масочный костюм «зайца». Трагические обертоны этого текста пограничны с комическим эффектом: «Как-то на городской площади организовали праздник. Что праздновали, было не ясно, но веселье проникало повсюду» (Михайлов 2019: 332). Не мог Иваныч пропустить этого, решил посмотреть на «событие», всем нравился праздник, который устроили заезжие артисты, «Иванычу тоже все понравилось, но долг был выше желания, и он побрел обратно…» (Михайлов 2019: 333). Поэтика литературы XXI века не так схематична и иерархична, нарушением естественного хода наррации достигается т.н. эффект бабочки, при котором незначительный сдвиг может нарушить набор связей, а это деформирует всю систему лабиринтов сказочного повествования. Один из актеров, потеряв свою одежду, оставляет после представления Тимофею Иванычу сценический костюм «зайца»: «На пороге стоял человек, наряженный в костюм зайца <…>.
– А можно я у тебя оставлю зайца этого? Можешь поносить, если хочешь. Хе-хе.
– Оставляй. А что, симпатичный заяц. Мы в детстве о таких и не мечтали» (Михайлов 2019: 334).
По истечении месяца за костюмом так никто и не приехал, хотя договор был. Соблазн перевоплотиться, вернуться в детство, вспомнить прошлое все же взял верх: «Иваныч нерешительно взял костюм, подошел к зеркалу, приложил к себе, посмотрелся, хихикнул. А потом и надел его. В зеркале увиделся большой заяц с вытянутыми вверх ушами, белый, немного нелепо улыбающийся.
– Тимка – заяц, – прохрипел Иваныч. – Прыг-прыг, под кусток. – Он сложил руки по-заячьи» (Михайлов 2019: 334-335).
В данном случае имеет место т.н. отсылка и к киносценариям В.Г. Сутеева, и к кукольному / ролевому театру вообще. Игровая манера поведения героев в «Старом зайце», вероятно, говорит о замещении классической поведенческой манеры на новую, еще не столь привычную. Аллюзии на тексты Ш. Перро вторят этому принципу; для Михайлова некое дублирование сюжета позволяет создать эффект двойственности кадра – мы или вспоминаем уже готовый нарратив, или сращиваем его с иной ситуативной интерпретацией. По наблюдениям М.Н. Липовецкого, «литературная сказка – это в принципе то же самое, что и фольклорная сказка, но в отличие от народной литературная сказка создана писателем и поэтому несет на себе печать неповторимой творческой индивидуальности автора» (Липовецкий 1992: 3). В данном варианте преобладает не столько интуитивная догадка, сколько дешифровка философского поступка. Главный герой обретает в ходе перевоплощения новый путь к истине, стабилизирует для себя новую парадигму осмысления реалий. Отметим, что структура сказок Романа Михайлова не просто линейна, она последовательна: от аллюзийных доминанта из Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, А.П. Чехова до мультипликационных вариаций В.Г. Сутеева и песенных моделей В.С. Высоцкого. Причем компилятивный принцип является литературным фитом для раскрытия сути сказанного.
Генеративная природа «Ягод» Р. Михайлова заключается в вероятном разрешении одного из самых сложных вопросов литературы – преодоления фронтира смерти. Автор предлагает версию посмеяться над «ней», либо принять природу этого явления как естества просто не получается. Не случайны, следовательно, и переходы / метаморфозы оценки смерти, например, в сказке «Старый заяц». Герои «Старого зайца» по ходу художественной наррации теряют мысль, связь с сознательным и рациональным: «Смотри, как интересно получается: когда к детям приходят зайцы, то дети радуются, смеются, а когда к директорам, то те в страхе падают. Ты смотри только, какой дурак. Он подумал, что это смерть его пришла. Да разве смерть как заяц приходит? Совсем мозги пропил» (Михайлов 2019: 337). Думается, что потеря мысли – есть примета потери языка, следовательно, возврата в некое условное прошлое уже не будет, придется перейти в новое, еще не известное состояние.
Преодолевая момент речевых балансов и автор, и герой проникают в иное знаковое пространство, а это код, символ, многозначность. Фактор памяти для Р. Михайлова, на первый взгляд, и не совсем значим, однако, когда заканчивается зримое (сюжетная картинка), начинает проявляться силуэт, условность, образность, эстетический передел, что так важно и ценно для литературного труда. Если следовать поэтике постмодернизма, дублирование реальности / удвоение пространства / копия образа формирует вероятностный выход к новым рубежам дискурсивных (Безруков 2017) коннотаций.
Аллюзийный диалог с классикой проявляется в «Ягодах» как на уровне языка, интертекстуальности (Кристева 2004), стиля, так и буквального переигрывания / обыгрывания знакомых литературных сцен. Например, одной из кульминаций романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» является сцена чтения Соней притчи о воскрешении Лазаря. Безусловно, напряжение в данном случае нарастает по ходу воспроизведения новозаветного текста, хотя Раскольников и несколько инертно относится к сюжетному чуду. У Романа Михайлова фиксируется только начало этого эпизода, что в принципе целесообразно, ведь герои «Старого зайца» только обретают вектор, граничащий с новой жизнью, причем в сказке смысловая разверстка усиливается еще и аллюзией на рассказ А.П. Чехова «Смерть чиновника».
«Внезапно в дверь постучались. Иваныч, не торопясь, подошел и открыл. Это была Зина, подруга Иваныча, которой, как правило, дома делать было нечего, и она приходила к нему почесать языком, обсудить политику и культуру, в общем, скоротать время. В этот раз она сделала шаг назад и, не успев вскрикнуть, упала навзничь.
– Ой, Зин, ты что, – подскочил Иваныч.
– Тимка, ты? – еле выговорила Зина. – Что с тобой такое?
– Ничего. Это костюм такой. Артист оставил. Вот, примерил.
– А, понятно, – Зина пришла в себя, зашла и села на свое привычное место. – А чего ты улыбаешься все время?
– Это не я, это костюм такой, заяц улыбающийся.
– Знаешь, я думаю, что те, кто все время улыбаются, они того, – Зина покрутила у виска.
– Рассказывай, как делишки-то» (Михайлов 2019: 335).
У Достоевского читаем:
«– Это откуда? – крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в трех шагах от стола.
– Мне принесли, – ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.
– Кто принес?
– Лизавета принесла. Я просила.
«Лизавета! Странно! – подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждою минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать» (Достоевский 1973: 248-249).
Фактор перевоплощения, переодевания в костюм зайца становится неким импульсом для того, чтобы героям двигаться дальше – из мрака бытовых реалий к свету истинного счастья. Отметим, что и Ф.М. Достоевский, и А.П. Чехов в своих произведениях ориентировали на это; герои классической русской литературы даже в формате «маленький» или «мелкий» (Л. Леонов) человек думают и мыслят философично, сложно, а главное – изыскано и правильно. Насколько тонко и риторически верно в финале «Смерти чиновника» произносит монолог о человеке Иван Дмитрич Червяков. Читаем:
«– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с…, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...» (Чехов 1983: 166).
Насколько выверена у Червякова граница понимания истинного и ложно, насколько он убедителен в своих мыслях. Герой А.П. Чехова сближается в данном случае со знаменитыми философами, ораторами античности.
Сказка «Старый заяц» из всего сборника Р. Михайлова, на наш взгляд, является кульминацией, она и завершает цикл «Ягоды». Образ зайца к финалу у читателя вызывает двойственные чувства, следовательно, художественное обобщение удалось. Не случайно, Заяц произносит следующую фразу:
«– Сложно все стало. Земля тяжелеет, непонятностей набирается… Что делать-то?» (Михайлов 2019: 340).
Помимо усложнения человеческого бытия, усиливается, усложнятся и сам литературный смысл. Оригинальность коннотаций, конечно же, зависит от контекста, который в «Ягодах» можно охарактеризовать как мультидисциплинарный. В своей работе о смысле И.П. Смирнов тезирует, что «опыт словесного искусства свидетельствует, что на каждой фазе художественной эволюции персональные варианты смысловых трансформаций объединяются в межиндивидуальные семантические системы – из частных моделей мира вырастает общая картина реальности, свойственная той или иной литературной эпохе» (Смирнов 2001: 15), и далее, «каждый текст преобразует сложившуюся литературную обстановку, он соотнесен и со всем множеством когда-либо созданных текстов, принадлежащих к различным областям нашей коммуникативной практики» (Смирнов 2001: 17).
Барьер точечности значений должен преодолеваться читателями сказок Р. Михайлова как изотопия (Безруков 2018). Противоборство «зайцев» и «лис» к финалу «Старого зайца», а это сюжетно оправдано в жанровой раскладке, трансцендентно. Мыслить и чувствовать у героев сказки одновременно не получается, «сложность стала немыслимой» (Михайлов 2019: 341). Свет истины пока еще не совсем кристаллизован для героев, а может быть, этого и не произойдет в ближайшее время. Однако, каждый должен сам подойти к правильному итогу, познакомившись лишь только с номинацией. Отметим, что для «Ягод» характерно циклическое обрамление мира, основные пределы бытия / устройства мира высвечены достаточно фактурно – это вода, воздух, земля и «огонь». Лиса как условный образ в финальных строчках рецептивно воспринимается «огненной силой», но это лишь начало обновления героев. Не исключается в данном случае и танатологическая составляющая, она также имеет место быть: «– Туда нельзя, заяц заметил взгляд Иваныча. – Не думай даже. Там лисы живут» (Михайлов 2019: 341).
Следовательно, начинается сказка «Старый заяц» с образа «человека с ружьем», ну и заканчивается некоей условной «охотой» за новыми ощущениями, обозначением страсти обрести новую жизнь. Боязнь нивелируется страстным желанием, страх сменяется на соблазн. На наш взгляд, очень показательна в аллюзийном режиме концовка сборника «Ягоды». Предвкушение новых горизонтов вновь отсылает к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», где в эпилоге намечается путь обновления заглавных герое. Для авторов как XIX, так и XXI века важно озвучить мысль, что «все пройдет», «бояться не стоит», «обновление есть закономерный этап». Иваныч Романа Михайлова снимает костюм зайца, становится «как бы» собой, собой – обновленным: «А Зина положила голову на плечо Иваныча, предвкушая красоту и ясность лисиных владений» (Михайлов 2019: 341). Сказочная конструкция достигла своего апогея, традиция жанра закрепляется нарративной сюжетной канвой.
В финале работы хотелось бы пролонгировать вариант диалога с потенциальным читателем: можно ли сказать, что финал сборника «Ягоды» Романа Михайлова счастливый? Вероятно, что «да». Ибо герои обретают уверенность в том, что их новая жизнь должна принципиально отличаться от существующей стагнации. Следовательно, эстетические ориентиры выровнены, номинация бытийных пределов сделана не только в формальном, но и содержательном ключе. Констатируем, аллюзии в сборнике сказок Романа Михайловна многообразны, многолики, нетривиальны. Автор конфигурирует художественную реальность в рамках поэтики (Безруков 2016) постмодернизма, принципа настроенного на разрушении классической догматики, стремлении к поливарианту прочтений. Объективная данность текста сказок Р. Михайлова маркируется диалогическими отношениями с образцовой литературой, тем самым продляя в целом творческий процесс поиска жизненных истин.
作者简介
Andrei Bezrukov
Ufa University of Science and Technology (Branch in Birsk)
编辑信件的主要联系方式.
Email: in_text@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7505-3711
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
俄罗斯联邦, Birsk参考
- Bart, R. (2008). Mifologii / Per. s fr., vstup. st. i komment. S. Zenkina. Moskva: Akademicheskij Proekt. (in Russian).
- Bezrukov, A.N. (2015). Differenciaciya teksta i diskursa s pozicij sovremennoj lingvisticheskoj teorii // Zhanry` i tipy` teksta v nauchnom i medijnom diskurse, Orel, 01 aprelya 2015 goda / otv. red.: A.G. Pastuxov. Orel: Orlovskij gosudarstvenny`j institut iskusstv i kul`tury`. S. 8-19. (in Russian).
- Bezrukov, A.N. (2017). Kommunikativny`e strategii analiza xudozhestvennogo diskursa. Vestnik Dimitrovgradskogo inzhenerno-texnologicheskogo instituta. №2(13). S. 143-149. (in Russian).
- Bezrukov, A.N. (2016). Principy` antichnoj dramy` v usloviyax postmodernistskoj poe`tiki. Filologicheskie nauki. Voprosy` teorii i praktiki. №4-3(58). S. 20-22. (in Russian).
- Bezrukov, A.N. (2018). Faktory` semanticheskoj izotopii literaturno-xudozhestvennogo diskursa. Nizhnevartovskij filologicheskij vestnik. №2. S. 81-86. (in Russian).
- Gluxovskij, D.A. (2021). Tekst : roman. Moskva: Izdatel`stvo AST, (in Russian).
- Dostoevskij, F.M. (1973). Polnoe sobr. soch. : v 30 t. T.6. Prestuplenie i nakazanie. Leningrad: Nauka. (in Russian).
- Kristeva, Yu. (2004). Izbranny`e trudy`. Razrushenie poe`tiki / Per. s francz. Moskva: Rossijskaya politicheskaya e`nciklopediya (ROSSPE`N). (in Russian).
- Lipoveczkij, M.N. (1992). Poe`tika literaturnoj skazki (na materiale russkoj literatury` 1920-1980-x godov). Sverdlovsk: UrGU. (in Russian).
- Mixajlov, R. (2019). Yagody`. Sbornik skazok. Moskva: Individuum. (in Russian).
- Pelevin, A. (2022). Pokrov – 17 : roman. Moskva: ID «Gorodecz». (in Russian).
- Propp, V.Ya. (2000). Istoricheskie korni volshebnoj skazki. Moskva: Labirint, (in Russian).
- Serdechnaya V. (2020). Chelovek sil`nee my`shi, ili Strashnaya skazka o devyanosty`x. Voprosy` teatra. №1-2. S. 52-59. (in Russian).
- Smirnov, I.P. (2001). Smy`sl kak takovoj. Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt. (in Russian).
- Stepnova, M.L. (2020). Sad : roman. Moskva: Izdatel`stvo AST : Redakciya Eleny` Shubinoj. (in Russian).
- Chexov, A.P. (1983). Polnoe sobr. soch. i pisem : v 30 t. Sochineniya : v 18 t. T. 2. 1883-1884. Moskva: Nauka. (in Russian).
补充文件