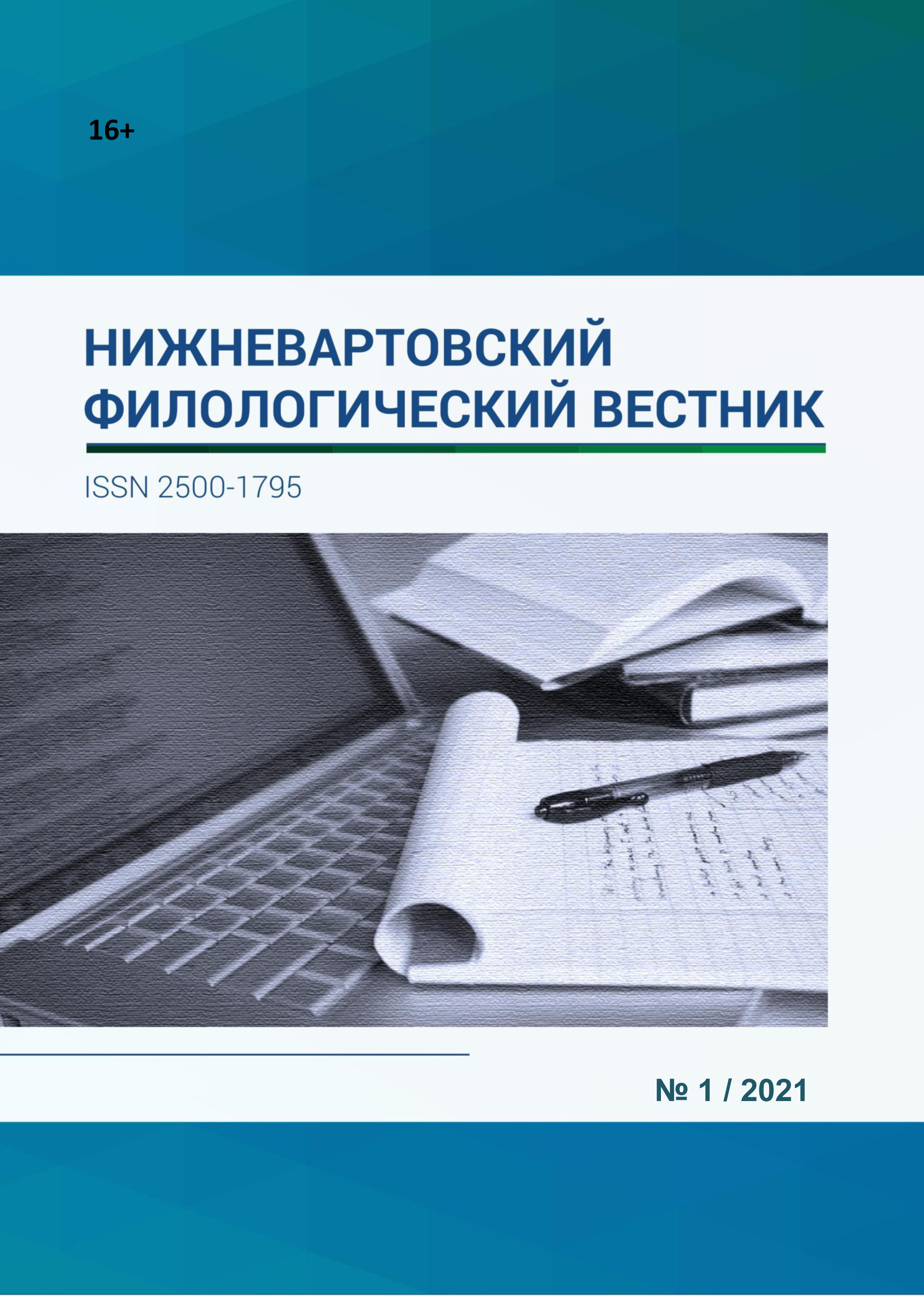Образы искусства в поэзии Бориса Филиппова
- Авторы: Марков А.В.1
-
Учреждения:
- Российский государственный гуманитарный университет
- Выпуск: Том 6, № 1 (2021)
- Страницы: 50-60
- Раздел: Отечественная филология и методика преподавания
- URL: https://filvestnik.nvsu.ru/2500-1795/article/view/89209
- ID: 89209
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Один из крупнейших поэтов «второй волны» русской эмиграции Борис Филиппов был также опытным издателем и проницательным критиком. Его эстетика кажется на первой взгляд эклектичной, соединяющей достижения символизма и акмеизма, а его стихи — примером поэзии культуры со множеством аллюзий, скрытых цитат и побочных сюжетов. В статье доказывается, что на самом деле поэзия Бориса Филиппова представляла собой исследование того, как возможна лирика после катастрофы. Предшествующие мифы культуры, от платонизма до романтизма, рассматриваются Филипповым как отблески, как область эмоциональных переживаний, тогда как процедуры создания завершенного текста он понимает как методические и схожие с живописью. Филиппов и в своей критике, и в своей поэзии противопоставляет благородство завершенной формы тем конфликтам, которые и ведут к катастрофе, но и большую часть «вечных» сюжетов он считает вариантами конфликтов, не способных породить эстетическую ценность в современном мире. Эстетическая ценность не может быть предметом простой презентации или изложения, согласно Филиппову, она требует использования сказочных или бытовых сюжетов, противоположных катастрофическим, но при этом выступает не как предмет репрезентации, а как ее инструмент. Для обоснования своей позиции Филиппов обращается к анализу «Медного всадника» Пушкина и порожденной им литературной традиции анализа катастроф, не исключающего лирического восторга. Чтобы сохранить инструментальный статус ценности, Филиппов обращается к опыту Мандельштама как поэта и теоретика, к культуре разработки сказочных сюжетов начала ХХ века, к опыту Блока, в котором он видит одновременно жертву старого представления о лирике и пророка. В конце концов Филиппов утверждает новый статус лирики, не как одного из устойчивых видов литературы, но как определенного способа производства смыслов, который нельзя свести к драматическим сюжетам. Лирика, в отличие от прозы, может дистанцироваться от текущих эмоций и обособленных человеческих характеров, благодаря фасцинирующему переживанию участия в создания некоторой «картины». Поэтому Филиппов часто вводит в лирику сказочные и мифологические мотивы как наиболее «живописные» и воспроизводит процедурные этапы создания живописи при оформлении лирического цельного высказывания.
Полный текст
Борис Андреевич Филиппов (1905–1991) — один из ведущих литераторов «второй волны» русской эмиграции. Больше всего он известен как составитель и издатель, вместе с Г.П. Струве, многотомных собраний сочинений Б. Пастернака, А. Ахматовой, Н. Гумилёва, О. Мандельштама, Н. Клюева и других авторов. Эти книги были подготовлены по академическим стандартам комментированного издания, несмотря на ограниченные текстологические возможности, во многом благодаря умению Филиппова вести интенсивную переписку по специальным вопросам. Его литературное наследие, как стихи, эссе, рассказы — более двадцати книг, не считая изданий избранного. Но хотя упоминания его в эмигрантике, научных работах о русской литературной послевоенной эмиграции, очень часты, его авторитет литературоведа и издателя велик и сейчас (Бабичева 2018), исследовательских работ, посвященных его поэтике или его эстетике пока нет, за исключением нескольких замечаний о тотальном экфрасисе в его поэзии (Марков 2018: 624). Это тем более удивительно, что человек, сделавший так много для публикации и понимания русской поэзии ХХ века, не мог не иметь собственных эстетических убеждений, а новаторские установки видны во всех его суждениях об искусстве.
В стихах Филиппова образы искусства не ограничиваются воспроизведением сюжета, реконструкцией изображаемой сцены, которая служила бы основой для непосредственного лирического высказывания. Наоборот, искусство оказывается одним из участников еще подлежащей реконструкции сцены. Искусство выступает не как предмет изображения, но как одна из действующих инстанций, создающих ту сцену, которая только и может стать поэтическим сюжетом. Тема кризиса искусства могла разыгрываться в его стихах в ключе иронически или саркастически изложенного гностицизма, представления о течении времени как признаке упадка самого бытия, временной суеты как онтологического кризиса. Так, в стихотворении «Котофеич Котофей...» (1955) (Филиппов 1971: 37) поэт утверждает, что миф об Орфее и Эвридике, о невозвратной потере, может обрести свой смысл, если признать индуистское перевоплощение в гностическом ключе как единственную модель возникновения эстетической ценности:
В узких и слепых зрачках
золотая лира...
А в стихотворении «Да, одиночество. — Удавленное слово…» (1956) (Филиппов 1971: 38-39) одиночество может быть тоже объяснено лишь с помощью гностической модели, в которой есть души, заведомо обреченные на одиночество — перед нами прямое преломление мифа Платона об андрогинах. Но невозможность восстановить катастрофически утраченную органическую целостность, исцелить кровоточащую рану разделенных пополам людей Платона, всё же допускает наличие смысла как системы следов и воспоминаний, которые могут менять место, переходить в новую эпоху, но сохранять связь с золотым веком прежней цельности:
...Отблеск яблок Золотого века
в утлом сердце человека…
Таким образом, всякий раз катастрофа прежних сюжетных моделей, которые утрачивают моральный смысл и разворачиваются просто как болезненная утрата былой цельности, может быть преодолена принятием другой модели, системы отблесков, золота, сияющего в зеркалах (один из сквозных образов поэзии Филиппова). Не сама ценность, а ее отблески преодолевают век катастрофы и позволяют состояться лирике как роду литературы, а не просто философскому или прозаическому утверждению ценностей.
Сам Филиппов, будучи выдающимся критиком эмиграции, дал пример подхода к реконструкции искусствоведческих образов в рассуждении о пушкинском «Медном всаднике», где попытался разобрать основной для исследователей поэмы вопрос: как соединяется явное любование эстетической стройностью Петербурга с признанием петровских реформ как попрания личности бюрократической машиной. Филиппов решает вопрос, различая собственно образ Петра как человека и образ Медного Всадника как произведения искусства, могучий, вечный, сопоставимый с природой и неподвластный даже стихиям природы, своеобразную идею (в платоновском смысле) Петра. Евгений, бесспорно, раздавлен бюрократической машиной, но он бросает вызов и Петру как историческому деятелю, и Петру как идее, их не различая, именно потому что когда-то была допущена роковая ошибка, аристократия лишилась независимости и чести, будучи поставлена в один ряд с новой, карьерной аристократией (Филиппов 1973: 49). Неразличение в области социальной породило ответное неразличение в эстетической области. Тем самым именно Евгений формирует проблематику русской литературы не просто как проверку идеалом реальности, но проверку и идеала, и реальности, — исходя из того, что системные ошибки появились и там, и там.
Поэтому оказывается, что памятник Фальконе как безупречное произведение искусства и старый аристократизм как столь же безупречная честь и независимость, предстают в искаженных своих проявлениях в виде тени памятника и в виде обыденной судьбы Евгения, и таким образом в столкновении выступают два «произведения искусства», хотя столкновение стало возможным именно из-за того, что не всё является безупречным произведением искусства (Там же: 23). В конце концов, по Филиппову, такое столкновение определило и позицию Блока, к которой примыкает он сам. В этой позиции созерцание трагедии, которая происходит в самой природе, трагичности самой природы, в которой есть смерти и катастрофы, только и может восстановить изначальную коллизию с участием искусств, которая забывается за исключительно социальной мелочной дискуссией. Блок в этом смысле для Филиппова — аристократ и знаток природы, и ориентация на его поэтику позволяет выяснить, где именно появились названные системные ошибки, эстетическая путаница.
Филиппов наравне с рассуждением о таком эстетическом опыте, только и позволяющем организовать поэтическую форму после катастрофического неразличения, создал свой метод исследования образов искусства. Он исходил из того, что искусство может материализовывать рефлексы, те самые отражения прежних эпох в новых вещах, но может материализовать и самую вещественность вещи, а может и внутреннюю сущность, по отношению к которой эта вещественность будет уже изменчивой. Художник может передавать «рефлексы света и тени на поверхности предмета, воздушную атмосферу, его окружающую, — как это умели блестяще делать, например, импрессионисты, — или саму вещность предмета, пребывающую более или менее неизменной в потоке ежемгновенных изменений, — как это пытался делать Сезанн, — или, наконец, сосредоточить свои усилия, всю мощь своих душевных сил — на постижении внутренней сущности изображаемого, как в разных областях духовности творили русские иконописцы XIV века и Рембрандт?» (Филиппов, 1961: 167).
Тем самым, оказывается, что собственно предмет передачи не так важен, в сравнении с порядком воплощения и материализации, показывающим, что искусство возможно. При всем различии задач и областей, мы в поэзии должны получить материализованный вариант ответа на вопрос, как появляется предметность в искусстве. Как указание на то, что обстоятельства воспоминания не так важны в сравнении с благородством атмосферы воспоминаний, созданы и многие петербургские стихи Филиппова, например,
Квадрига тяжкая — и неба легкий пух,
и ты летишь в увей воспоминаний, —
а над Невой весны парящий дух —
и глаз слезящийся плешивых воздыханий.
Атмосфера оказывается единственным способом указать на возможность действия, тяжести и легкости, которое и выводит к предметности, отличающейся от прежних эмоций. Предметность оказывается вопросом не непосредственного созерцания композиций, но проживания тех базовых чувств, которые и сохраняются в поэзии после катастрофы прежних сюжетов, после того как все прежние сюжеты кажутся безысходными. Еще сильнее эта предметность выступает там, где Филиппов дает эстетизированные версии сказок, имея в виду и иллюстративные ряды для сказок.
Так, в стихотворении «Вяжет бабушка платок…» (1942) (Филиппов 1971: 24) изображается то, как ребенок засыпает под чтение сказок. Сначала ребенку читается волшебная сказка про Жар-птицу, а потом бытовая — про свадьбу козы (вероятно, у засыпающего ребенка, видящего кота в комнате, в уме сливаются сюжет про козу-дерезу и про свадьбу кота и лисы). Сказка про Жар-птицу оказывается слишком восточной: «Блещет сказочный Восток», а приказывает изловить Жар-птицу «Индейский царь», т. е. индийский.
Декоративное отождествляется с восточным, и вероятно, имеется в виду сюжет, известный по Синдбаду-мореходу и по поэме Низами «Семь красавиц» — приказ «индийского царя», то есть исламского правителя части Индии, поймать птицу Рух. В сюжете Низами птица относит индийского царя в чудесное царство к невесте, местной царице, но она обманывает его, выдавая за себя всех своих фрейлин, так что после очередной брачной ночи индийский царь разочаровывается в женщинах и жизни вообще. Именно такая история соблазна, заканчивающегося ничем, есть и у Филиппова: «И узором вьется старь / про красу девицу». Конечно, в основе этого стихотворения могла быть самая простая версия этого сказочного сюжета, скорее всего, «Иван царевич и серый волк», где как раз добывание жар-птицы оказывается целью. Но замечательно, что индийская ткань, Жар-птица и принципиально затянутый сказочный сюжет, восточного типа, здесь совмещаются в общем ощущении катастрофичности, что ребенок заснет раньше, чем сюжет приобретет завершенную форму — и тогда общее впечатление отблесков, например, от любого декора как отблеска восточной орнаментики, может собрать поэтическую форму.
Другой вариант такого странного соединения искусств ради создания завершенной формы после катастрофы, после превращения всех привычных сюжетов в сюжет гибели — стихотворение 1968 года (60-61), написанное размером мандельштамовского «Жизнь упала, как зарница...» и обыгрывающее всю его образность — как раз в 1967 г. вышло собрание Мандельштама под редакцией Струве и Филиппова. В комментарии Филиппов объяснил (Мандельштам 1967: 483-483), со ссылкой на Ахматову, что это стихотворение было обращено к возлюбленной О. Ваксель, а написано было, когда О.Э. Мандельштам и Н.Я. Мандельштам тяжело заболели и боялись умереть — поэтому в стихотворении сливаются мольба об исцелении и обращение к возлюбленной-ангелу. Такое решение Мандельштама, заметим уже мы, вероятно, было подсказано катастрофическим «Предчувствием» А.С. Пушкина, где тоже предвестие возможной скорой гибели разрешается в желании видеть возлюбленную как ангела, как единственную, кто может даже простым присутствием и жестом подтвердить, что жизнь имеет смысл:
Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти.
Мандельштам и после возвращался к этому пушкинскому размеру и этой теме возлюбленной как ангела, от которого зависит и его судьба, и посмертное существование в культуре. Таково прощальное стихотворение 1937 г., обращенное к Н. Я., «Твой зрачок в небесной корке…» Всё стихотворение Филиппова выглядит как вариация на строки мандельштамовской жизни-зарницы:
Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.
Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча —
До высокого плеча.
Мандельштамовскими неофольклорными образами стихотворение Филиппова переполнено. Это и «палаты / тароваты и богаты» и «яблок пестрых самоцветы», «золотой духмяный хлеб» и многие другие. Но у Филиппова появляется новый сюжет: архангел Михаил опускает меч, и серафим, охраняющий врата в рай после изгнания Адама и Евы, пускает новых возлюбленных в рай. Серафим оказывается лишь декоративной фигурой: «Сколько клюквенного дыма / в опереньи серафима», тогда как «Михаил, водитель сеч» охраняет райский престол. В конце концов «Михаил Архистратиг / меч запрятал и утих», но райский мир оказывается миром самого простого быта. Так процедуры создания сначала живописного образа серафима, а потом и иконописного образа архангела Михаила оказываются моментами этого восстановления или установления целостного лирического переживания.
В стихотворении Мандельштама союз с О. Ваксель возможен только в «заресничной стране», том самом ангельском взгляде возлюбленной, который и делает невозможное возможным, так что сказочные образы, вроде «куколя дворцового» или «тулупов золотых» начинают работать как предметы экстатического созерцания, которые невозможно просто развертывать как часть повествования, но только как нечто небывалое. Тогда как у Филиппова любое небывалое оказывается частью быта с иконой архангела Михаила, которая и становится нормой концентрации всех сказочных сюжетов:
Цвета песенного сада
перед образом лампада.
При этом собственно образ возлюбленной — образ вегетативной полноты, образ, в котором нет ничего сублимированного, определенного режимом любовной лирики как идеализирующей предмет. Напротив, это неофольклорный образ, где любые аффекты оказываются продолжением поэтического слияния со стихиями и их требованиями:
А хозяйка чуть полна —
океанская волна:
груди — кувшины вина
(без вина душа пьяна),
очи — сказок хоровод,
губы сладкие как мед —
жизни радостный кивот!
Таким образом, образы Мандельштама становятся образами народного искусства, например, бытовой росписи дома и утвари. Лирика поэтому изживает разрыв между идеализацией предмета и его бытовым существованием как смертного — заново пересобранная после катастрофы лирика исходит из некоторой цельности, где все вдохновляющие свойства оказываются эффектами традиционных фольклорных сравнений. Так работает система отблесков, создающих благодаря аналитически взятым разрозненным фольклорным сравнением общее впечатление погружения в первоначальную стихию.
Стихотворение «Геракл» с подзаголовком «Эллинский барельеф в церкви S. Maria Sopra Minerva» (Филиппов 1971: 66) открывает цикл «Итальянское лето. Мимолетности» — зарисовки наполненной туристами Италии. По сути весь цикл — большой эксперимент, насколько Италия воспринимается аутентично, если везде встречаются туристы: как соединить оптику разглядывания туристов и оптику, направленную на понимание духа Италии. Иначе говоря, вопрос поставлен, как сохранить цельность восприятия отблесков небесной красоты в отблесках впечатлений от Италии, если любой сюжет с участием туристов оказывается роковым для целостного духовного облика Италии. Этот вопрос в «Итальянских стихах» Блока был решен однозначно отрицательно: суета туризма и коммерциализации, «всеевропейской желтой пыли», мешает воспринять те порядки духовных действий, которые и сделали Италию некоторым идеальным сном или предназначением человечества. Борис Филиппов отвечает Блоку скрыто: Блок упоминает «синий сон» Беато Анжелико как одну из миссий Италии, которая грубо отброшена современной суетливой цивилизацией, а Филиппов начинает свой цикл с рассказа о римской церкви, где фра Беато и погребен.
В стихотворении «Геракл» дан довольно подробный экфрасис саркофага эпохи греческой классики (V в. до н.э.), который стал частью одного из надгробий в храме:
Пальцы хрустнут — хрустнет позвонок, —
убиваемый, любимый — нет спасенья...
Весь — напруженность, и в первозданность — пальцы ног,
когти лапы раздирают темя.
Зверь мой, лев мой — затворил глаза,
гривы дух пьянит необоримо:
факел вверх — в крови любви заря,
факел вниз — в крови любви развязка.
Смерть — твоя ль, моя ль уже равно:
пальцы хрустнут — хрустнет зверя выя…
Геракл действительно обхватил шею льва двумя руками, при этом лев задней лапой давит ему на голову, так что он должен задушить льва, «хрустнет зверя выя», прежде чем погибнет сам. При этом Геракл босой, так что мышцы стопы напряжены, он должен не повредить пальцы. При этом если рассматривать центральную часть, то действительно кажется, что Геракл закрыл глаза, опьяненный гривой зверя. Если мысленно взять голову Геракла и зверя в круг, мы не отличим это изображение от медальонов и вообще барельефов ар-деко: если не обращать внимание на качество мрамора и специфику самого предмета, можно принять изображение за творение Деметра Чипаруса. Опьянение тогда тоже связано с культурой духов, как раз периода ар-деко. Факелов нет на самом барельефе, но эти аллегории жизни и смерти, поднятый и потушеный факел, любимые символизмом и вошедшие в официальную скульптуру страны, создавшей ар-деко: достаточно вспомнить с одной стороны Нью-Йоркскую Свободу, озаряющую мир (Liberty Enlightening the World) работы Фредерика Огюста Бартольди, а с другой — Ангела Хэзерота (The Angel of Death Victorious) в Кливленде работы Хермана Матзена. Таким образом, здесь не столько экфрасис, сколько попытка выяснить, как символы, превратившись в базовые чувственные впечатления, чистой силы, или чистого напряжения, могут опять выступить как часть целостного лирического переживания уже не роковой судьбы, а настоящего предназначения поэта.
Метрический и тематический прообраз здесь опять же ясен — «Век» Мандельштама. Невозможно не узнать в «Зверь мой, лев мой» начало мандельштамовского «Века». У Мандельштама само течение времени предшествует ломке позвоночника, то есть трагичным оказывается не отдельное событие, а само качество времени:
И горячей рыбой плещет
В берег теплый хрящ морей.
Любая катастрофа, любое принесение в жертву — у Мандельштама часть игры волны позвоночником, часть более общей катастрофы. В комментарии в собрании сочинений Мандельштама (Мандельштам 1967: 466) Филиппов привёл два мнения об этом стихотворении, С. Маковского и Вл. Маркова. Согласно Маковскому, «Век» «совсем недвусмыслен» и без труда «поддается расшифровке». Вл. Марков увидел в этом стихотворении «трагическое личное отношение к эпохе», отметил в публикации этого стихотворения смелость, а в факте его публикации — недосмотр цензуры, вероятно, не умевшей работать с трагическом пафосом, отождествлявшей понятную поэзию с нетрагической.
Говоря о борьбе Геракла и льва, Филиппов переводит вопрос о современности своему веку в другую область, как вообще был сломан тот самый позвоночник событий, как вообще трагическое перестало быть свойством времени и стало свойством отдельной сцены. И как и все стихи Филиппова, это стихотворение должно показать, что лирический жанр, основанный на просто сублимации отдельных вещей, отдельной предметности, отдельно от реально катастрофического содержания отдельных сюжетов, уже нежизнеспособен. Становится понятно, почему при описании саркофага появились факелы. Умерла старая поэзия, старого типа любовная лирика, где должна быть завязка и развязка, и сублимация, теперь смерть оказывается единственным возвышенным, но и умирает сама эта лирика, основанная на эстетизации готовых сюжетов. А живет лирика там где «заря», где синэстетическое впечатление способно собрать любые отблески, любые чувственные переживания, будь то мускульное усилие или запах.
Превращение отблесков в мгновенную составляющую той картины, которая в своей развернутости только и может быть лиричной — это главная тема поэзии Филиппова, например,
И святится солнце словесами
на ступенях родины моей,
золотится солнце телесами,
загорает ржавчиной полей. (Филиппов 1971: 41)
Когда Филиппов говорит о произведениях искусства, он не отходит от своей основной мысли. Он не противопоставляет порядок сюжетов в искусстве низкому бытовому порядку сюжетов, но оба эти порядка считает частью более сложного отношения между начальной цельностью, фольклорной или аристократической в широком смысле, и катастрофичностью любых частных лирических событий. Для Филиппова современность уже допускает лишь катастрофические лирические сюжеты, и выделить отдельную эстетическую область лирики невозможно, и уже Пушкин в своей петербургской повести предвещал этот тотальный катастрофизм. Он создает посткатастрофическую лирику, в которой может быть собран новый лирический сюжет, не из клишированных ходов, но из переживания чувств вокруг чувственности, отблесков чувственности. Филиппов объяснял, что такой метод работы с впечатлениями связан и с судьбами мирового искусства, рассматривая историю искусства в широкой культурной перспективе, ставя рядом, например, икону, Рембрандта и ар-деко. В результате он, опираясь одновременно на образы Блока и Мандельштама, учитывая также и неофольклоризм Клюева (с которым был лично знаком), создал оригинальную лирику, следующую не лирическим клише, но созданию синэстетического лирического настроения прямо на глазах у читателя.
Об авторах
Александр Викторович Марков
Российский государственный гуманитарный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: markovius@gmail.com
профессор
Россия, 125993, ГСП-3, Москва, Миусская пл., д. 6Список литературы
- Бабичева М.Е. Б.А. Филиппов — русский культуртрегер в США и Западной Европе // Румянцевские чтения-2018: Библиотеки и музеи как культурные и научные центры: историческая ретроспектива и взгляд в будущее: К 190-летию со времени основания Румянцевского музея. 2018. С. 52-59.
- Мандельштам О. Собрание сочинений в 3-х тт. / под ред. Г. П. Струве, Б. А. Филиппова. Т. 1. Нью-Йорк, 1967.
- Марков А.В. Между викторианством, ар-нуво и ар-деко. Экфрасис в блоковской линии поэзии русской эмиграции // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения. Седльце, 2018. С. 617-634.
- Филиппов Б. «Поэма без героя» Ахматовой: Заметки // Воздушные пути. Вып. 2. Нью-Йорк, 1961. С. 167-183.
- Филиппов Б. За тридцать лет: Стихи. Избранное 1941–1971. Вашингтон, 1971.
- Филиппов Б. Ленинградский Петербург в русской поэзии. Париж, 1973.
Дополнительные файлы